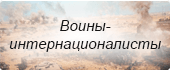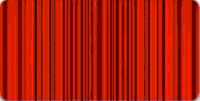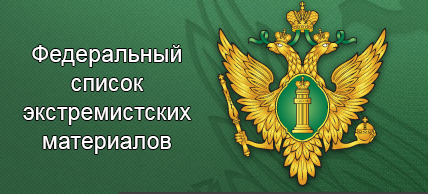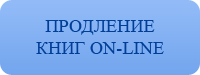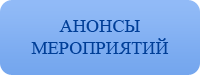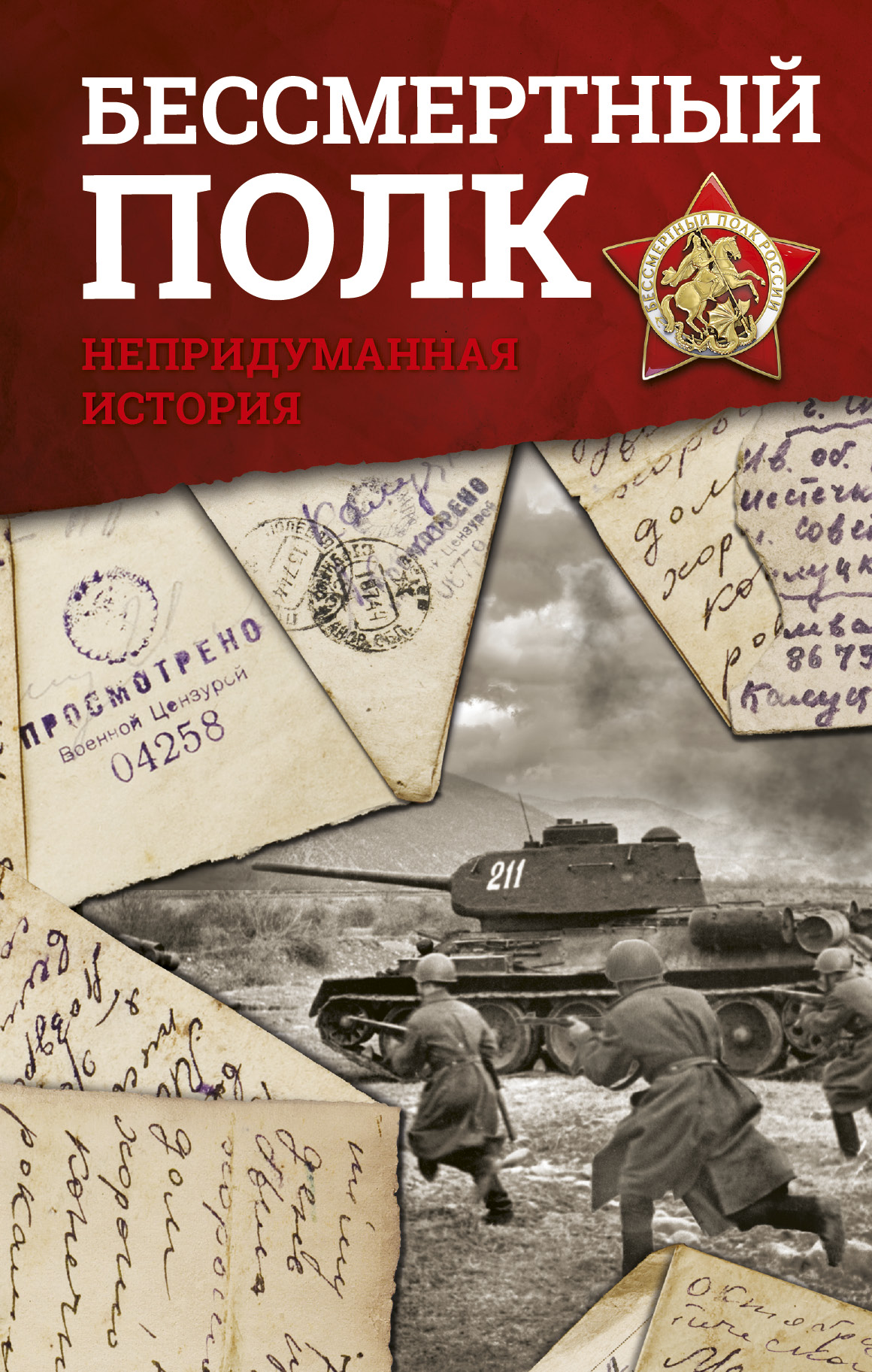Интервал между буквами (Кернинг):
- Главная
- Контакты
- Новости
- Афиша
- Меню слева
- О нас
- Услуги
- Нормативная база
- Фонды ЦБС
- Библиотеки ЦБС
- Мероприятия
- Календарь знаменательных дат
- Фотогалерея
- Книга отзывов
- Издательская деятельность
- Презентации
- Буктрейлер
- ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
- Планы и отчёты ЦБС
- Конкурсы
- Краеведение
- Виртуальные выставки
- Независимая оценка качества оказываемых услуг
- Муниципальное задание
- О работе библиотек в СМИ
- Центр социально-значимой информации
- Пропаганда здорового образа жизни
- Электронный каталог
- Бесплатная юридическая помощь
- Главная
- Краеведение
- Дворянские усадьбы
- Усадьба Крюково
Дворянские усадьбы
Усадьба Крюково
03.04.2015
 Имение Крюково Краснинского уезда Смоленской губернии в конце прошлого века и в начале нынешнего века принадлежало семье Веревкиных. Оно перешло по наследству главе семьи, известному детскому врачу Сергею Ивановичу Веревкину, от двоюродной сестры Е.А.Качуры, воспитавшей его.
Имение Крюково Краснинского уезда Смоленской губернии в конце прошлого века и в начале нынешнего века принадлежало семье Веревкиных. Оно перешло по наследству главе семьи, известному детскому врачу Сергею Ивановичу Веревкину, от двоюродной сестры Е.А.Качуры, воспитавшей его.
Веревкины - древний дворянский род. Один из Веревкиных, Игнатий Никитич, участвовал в осаде Смоленска в 1634 году. Об этом можно прочесть в энциклопедии Брокгауза и Эфрона.
Глава семьи Сергей Иванович Веревкин (1858-1927) воплотил в себе лучшие черты русского врача-интеллигента - ум, образованность, честность и благородство души. Вот, что пишет о нем в своих воспоминаниях его дочь Марианна Сергеевна (по мужу Рачинская).
"Кто из дореволюционных москвичей не слыхал о докторе Сергее Ивановиче Веревкине, который одним появлением своим на пороге комнаты умирающего ребенка умел внушить рыдающей матери надежду на его спасение? Папа славился как знаменитый диагност, и практика его была огромна. Имя его открывало множество дверей, закрытых для других. Но это не мешало ему оставаться скромным, забывающим о себе. Замечательный человек был папа, глубоко верующий и глубоко чувствующий, необыкновенной честности и благородства, полный духовных запросов и многосторонних интересов до последних минут своей жизни".
"Мой дед Иван Иосифович (продолжает Марианна Сергеевна), получавший как отставной военный небольшую  пенсию, с трудом сводивший концы с концами с семьей из семи человек, смог выделить своим двум сыновьям, папе и его брату Алексею, средства лишь на самое скромное существование, когда они, окончив гимназию, покинули родной дом, чтобы продолжить образование. Ютясь в дешевой комнате вместе с товарищем, папа способен был отказать себе в самом насущном, лишь бы побывать на новой постановке Малого театра с участием молодой Ермоловой, или сидя на галерке, рукоплескать знаменитой Патти; наслаждаться выступлением Антона Рубинштейна; лишний раз посетить выставку картин в Третьяковской галерее. Что значило недоедать, если вопрос стоял об удовлетворении духовных потребностей, которые были много значительнее, чем лишения или житейские невзгоды?! "Ибо не одним только хлебом жив человек" - слова Христа, которым папа остался верен до конца своих дней.
пенсию, с трудом сводивший концы с концами с семьей из семи человек, смог выделить своим двум сыновьям, папе и его брату Алексею, средства лишь на самое скромное существование, когда они, окончив гимназию, покинули родной дом, чтобы продолжить образование. Ютясь в дешевой комнате вместе с товарищем, папа способен был отказать себе в самом насущном, лишь бы побывать на новой постановке Малого театра с участием молодой Ермоловой, или сидя на галерке, рукоплескать знаменитой Патти; наслаждаться выступлением Антона Рубинштейна; лишний раз посетить выставку картин в Третьяковской галерее. Что значило недоедать, если вопрос стоял об удовлетворении духовных потребностей, которые были много значительнее, чем лишения или житейские невзгоды?! "Ибо не одним только хлебом жив человек" - слова Христа, которым папа остался верен до конца своих дней.
Из никому неизвестного молодого врача он стал одним из основателей "педиатрии", то есть, науки о детских болезнях, до того времени неотделимой от терапии. Кого только из знаменитостей своего времени ни лечил он?!.. Никогда не разговаривая вне своей работы о своей специальности, он охотно рассказывал о своих встречах и впечатлениях, поскольку посещал интереснейших людей, различных по профессии, положению и убеждениям. Когда папа вернулся из Ясной Поляны, куда ездил по приглашению Л.Н. Толстого к одному из заболевших его внуков, он рассказывал о своих беседах с Толстым, о большом обаянии его личности, о всей обстановке жизни этого величайшего художника.
Точность моего отца не требовала подтверждения часов. Слово, им данное, было равносильно расписке, и потому вся жизнь нашей семьи проходила, согласуясь с распорядком его дня. Никто не видал его без дела в те немногие часы, которые оставались иногда свободными после его трудового дня. Я не имею в виду театр или концерты, которые он посещал с мамой, и вечера, когда приходили гости... Папа любил все живое. Воспитывая нас, считал обязательным, чтобы мы росли, наблюдая и ухаживая за теми живыми существами, которые вместе с нами населяли наши комнаты, разделяли наш досуг, становились нашими друзьями. И в этом папа достиг своей цели.
 Большую часть своей жизни папа занимался фотографией. Его альбомы и стереоскопические снимки, уцелевшие каким-то чудом после многочисленных обысков, воспроизводят события жизни нашей семьи в последовательном порядке, начиная с 1898 года, года смерти моего маленького брата Жени, начала моей сознательной жизни.
Большую часть своей жизни папа занимался фотографией. Его альбомы и стереоскопические снимки, уцелевшие каким-то чудом после многочисленных обысков, воспроизводят события жизни нашей семьи в последовательном порядке, начиная с 1898 года, года смерти моего маленького брата Жени, начала моей сознательной жизни.
Восемь часов утра. Я вижу папу за письменным столом в своем кабинете, просматривающего газету "Русские ведомости", прежде чем ехать в больницу. Вопросы политики всегда волновали его. В молодости, как большинство передовой интеллигенции, он сочувствовал либеральному направлению, в дальнейшем был членом кадетской партии. После 1917 года его взгляды резко изменились, как они изменились у всех честных людей, видевших в том, что происходило, полное искажение тех идей, которые они привыкли уважать.
В начале кровавых событий Октябрьской революции папа был уверен, что происходящее не продолжится долго, что народ, в который он еще верил, поймет свое заблуждение. Папа надеялся, что появится человек, который сумеет подавить восстание черни, привлеченной лживыми обещаниями своих вожаков. Но когда он понял тщетность своих иллюзий, будущее представилось ему в беспросветном мраке, постоянном страхе за жизнь близких, в голоде и лишениях.
Невыразимо тяжело переживал папа эти годы и гибель невиновных в застенках ЧК, был потрясен, когда под предлогом изъятия ценностей на нужды народа начался грабеж церквей и расстрелы тех священников, которые пытались спасти древнее имущество своих храмов. Проповедь атеизма шла рука об руку с лозунгами большевизма: она была выгодна властям, развязывая руки убийцам, оправдывая проливаемую кровь, бесчинство и разврат...
Но возвращаюсь к описанию папиного дня. Вернувшись из больницы на короткое время, он принимал бесплатно детей неимущих родителей и после завтрака ехал по вызовам. Ровно в пять он входил в столовую... К восьми часам папа уезжал на заседание "общества детских врачей", если оно бывало назначено на этот вечер; или посещал больных, требующих срочного осмотра. Наконец он дома. На сегодня трудовой день окончен. Лежа на своем диване, он просматривал перед сном новости медицины по последнему журналу или обсуждал с мамой литературные новинки, только что появившиеся в печати. Его огромная библиотека, помещавшаяся в зале и кабинете, беспрерывно пополнялась и увеличивалась.
Накануне его смерти я зашла к нему и сидела возле него. Он ничем не выдал своего тяжелого состояния, оставаясь мужественным до последней минуты... Он умер ночью 27 января 1927 года, не приходя в сознание. Церковь на Новинском бульваре, где его отпевали, не вмещала всех, кто пришел проводить его, и толпы народа заполняли двор и улицу возле нее. Служили священники, его пациенты, их было семь человек. Организацию похорон взял на себя один из крупнейших представителей фирмы похоронных бюро, также пациент папы. Он шел впереди процессии, направляя ее среди уличного движения".
У Сергея Ивановича Веревкина и его жены Марии Васильевны (ур. Калакуцкой) было пятеро детей. Из них один умер ребенком. Судьба остальных глубоко трагична. Им пришлось пережить все испытания своего сурового времени. Старшая дочь Наталия Сергеевна Веревкина (по первому мужу Мануйлова (1897-1978)) - человек исключительного обаяния, душевной щедрости и великодушия. Была разносторонне образованным человеком, ученым-микробиологом (впоследствии петрографом), талантливым музыкантом, мастером художественной вышивки, превосходно знала несколько языков. Как и ее братья и сестра, она была на фронтах Первой мировой войны. Впоследствии стала женой военного министра Временного правительства Александра Ивановича Верховского, расстрелянного в период сталинских репрессий. Наталия Сергеевна прошла через ГУЛАГ. Выжила и продолжила своею научную деятельность. До старости сохранила остроту ума и увлеченность наукой и искусством.
Трагична судьба ее брата Ивана Сергеевича (1889-1919). В 1914 году он, движимый чувством патриотизма, ушел на фронт, несмотря на запрет врачей из-за болезни (туберкулеза легких). Это подорвало его слабое здоровье и в конечном итоге привело к преждевременной смерти. Человек огромного ума и способностей, талантливый философ-идеалист, ученик известного философа Л.М.Лопатина. Умер в 1919 году совсем молодым, не успев реализовать себя.
Не менее трагична судьба другого брата Сергея Сергеевича (1895 г.р.), военного инженера, погибшего в сталинских лагерях.
 И наконец - младшая в семье Марианна Сергеевна (1896-1980). Марианна Сергеевна училась на Высших медицинских курсах в Москве. В 1916 году, молоденькой девушкой, по зову сердца, ушла на фронт сестрой милосердия. На фронте работала с тифозными больными. Заразилась тифом и чудом осталась жива. В 1918 году вышла замуж за Владимира Николаевича Рачинского. Родила двоих сыновей. Пережила все тяготы того времени. Проявила большое мужество и силу духа. На ее глазах погибали близкие ей люди. Эти испытания не сломили ее. Она оставила воспоминания о своей жизни, где описала жизнь в имении, фронт, революцию, террор, аресты, обыски, гибель мужа и близких в застенках ГУЛАГА.
И наконец - младшая в семье Марианна Сергеевна (1896-1980). Марианна Сергеевна училась на Высших медицинских курсах в Москве. В 1916 году, молоденькой девушкой, по зову сердца, ушла на фронт сестрой милосердия. На фронте работала с тифозными больными. Заразилась тифом и чудом осталась жива. В 1918 году вышла замуж за Владимира Николаевича Рачинского. Родила двоих сыновей. Пережила все тяготы того времени. Проявила большое мужество и силу духа. На ее глазах погибали близкие ей люди. Эти испытания не сломили ее. Она оставила воспоминания о своей жизни, где описала жизнь в имении, фронт, революцию, террор, аресты, обыски, гибель мужа и близких в застенках ГУЛАГА.
В предлагаемой ниже главе из "Воспоминаний" Марианны Сергеевны Рачинской речь пойдет о ее приезде с фронта в смоленское имение Крюково накануне революции. Это - последний взгляд на ушедшую счастливую и безмятежную жизнь. В качестве иллюстраций прилагаем фотографии, сделанные в Крюкове Сергеем Ивановичем Веревкиным.
М. С. РАЧИНСКАЯ "ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ ЖИЗНИ". КРЮКОВО.
Записано в ноябре 1959 года.
В начале августа 1917 года я сошла на знакомой станции и увидела Кузьму, нашего работника, бывшего одновременно и кучером, встречавшего меня. Наш экипаж, запряженный в дышло караковой парой "Славным" и "Взяткой", стоят в поселке, невдалеке от железной дороги. Наши лошади боялись поезда, как всего, к чему не привыкли.
Мы едем по знакомой дороге, мимо знакомых рощ, полей и деревень. До Крюково 24 версты. Вот и М—во, сюда мы не раз приезжали на ярмарку в престольный праздник. На горе высится старая деревянная церковь. Она видна  издали. Теперь уже скоро, всего каких-нибудь 7 верст, и я увижу родные места. Любимое, старое гнездо, наш дом, украшенный резьбой, посеревшей от времени, увитый диким виноградом. Заросшее водорослями озеро, перед ним у берега среди деревьев баня, а дальше купальня. Возле нее покачивается привязанная лодка. Все стоит перед глазами. Фронт, отступление, война начинают казаться далеким, жутким сновидением. Дождя давно не было, пыль клубами несется за нашим экипажем, покрывая и Кузьму и лошадей и меня... Виднеется небольшая деревушка, вся расселившаяся на хутора. Она граничит с одной стороны с к[рюковск]ой землей. Из ворот с лаем вылетают собаки и несутся за нами, стараясь подпрыгнуть, укусить лошадей за ноги и морды. Крестьяне на полях смотрят нам вслед. А уже вдали наша березовая роща. Ее посадил мой покойный дед Иван Иосифович, и она называется "дедушкина роща". Мы спускаемся, поднимаемся к ней. В тени возле дороги сидят мама с Ваней. По обычаю они встречают меня.
издали. Теперь уже скоро, всего каких-нибудь 7 верст, и я увижу родные места. Любимое, старое гнездо, наш дом, украшенный резьбой, посеревшей от времени, увитый диким виноградом. Заросшее водорослями озеро, перед ним у берега среди деревьев баня, а дальше купальня. Возле нее покачивается привязанная лодка. Все стоит перед глазами. Фронт, отступление, война начинают казаться далеким, жутким сновидением. Дождя давно не было, пыль клубами несется за нашим экипажем, покрывая и Кузьму и лошадей и меня... Виднеется небольшая деревушка, вся расселившаяся на хутора. Она граничит с одной стороны с к[рюковск]ой землей. Из ворот с лаем вылетают собаки и несутся за нами, стараясь подпрыгнуть, укусить лошадей за ноги и морды. Крестьяне на полях смотрят нам вслед. А уже вдали наша березовая роща. Ее посадил мой покойный дед Иван Иосифович, и она называется "дедушкина роща". Мы спускаемся, поднимаемся к ней. В тени возле дороги сидят мама с Ваней. По обычаю они встречают меня.
Пешком мы идем к усадьбе, она уже виднеется за поворотом. Наши собаки Гранка. Рыжий и Цезарь узнают меня и радуются мне. Но как плохо выглядит Ваня, как озабочена бедная мама. Ведь он был освобожден от воинской повинности в связи с туберкулезом легких. Но пошел на фронт добровольцем. Мы уже около ворот усадьбы, и я невольно останавливаюсь. Слева возле ворот, подобно сказочным великанам, стоят столетние липы. Дорога уходит с горы через мост к селу. Возле плотины еще недавно стояла мельница. Ее нет, она сожжена. На горе - церковь. Она очень ветхая, папа намеревался построить новую. А дальше - школа, напротив - читальня. Все устроено им.
Мы у дома и через одну из террас, выходящую на двор, входим в столовую, минуя переднюю. Здесь ничего не изменилось, осталось, как было при покойной тете Лене, когда я впервые в 1898 году, совсем маленькая, приезжала к ней. Это посещение на всю жизнь осталось светлым памятным пятном моих воспоминаний. Те же вышитые крестом старые картины на стенах. В правом углу икона Божьей Матери. Старый диван под чехлом, буфет со старинным фарфором. В зале те же зеркала в простенках между окнами. Цветы и рояль в желтой деревянной коробке. Он давно стоит без употребления. Кресла, диван, все на тех же местах. Только теперь в гостиной или, как ее называли, "портретной", небольшой комнате с балконом, выходящим на озеро, стоит пианино, привезенное из Москвы, когда, после смерти тети Лены Крюково перешло папе. Тут же в углу - горка. В ней среди старинных семейных вещей маленький слон из слоновой кости. Им в восторге я любовалась в детстве.
Тетя Лена Качура - это двоюродная сестра моего отца, на много лет его старше. Окончив институт, она перешла в дом моего деда Ивана Иосифовича, очень рано овдовевшего. Она воспитала пять человек его осиротелых детей, заменяя им мать, а в доме - хозяйку. Здесь прошла вся ее жизнь, здесь она и кончилась. К сожалению, я была еще очень мала, чтобы иметь о ней свое суждение. Я помню ее, когда жила с братом Сережей и няней у моего двоюродного брата Кости Ежове кого в его небольшом имении, и мы время от времени бывали в Крюкове. Тогда мне было 9 лет. Тетя Лена, как и ее две сестры Люба и Юлия, была некрасива. Замужем была только младшая Юлия. Небольшой ее хутор был примерно в 80-ти верстах от Крюкова. Эти три мои тетки были типичные представительницы старого дворянства, хранившие его устои и традиции. Ни одна из них не решилась бы нарушить или изменить в них что-нибудь.
Тетю Лену любили и уважали окрестные крестьяне, а те, кто работал в доме или усадьбе, жили у нее не один десяток лет. Последние годы больная и будучи не в состоянии ходить, она была вынуждена доверять хозяйство некоторым из окружавших ее крестьян, и они, пользуясь своими полномочиями, а главное убежденные, что "барина обмануть не грех", довели Крюковскую землю до полного истощения. Но когда в 1905 году все кругом кипело и волновалось, тетя Лена продолжала спокойно жить. А когда сгорел ее овин с хлебом, соседние мужики со всех сторон везли "барышне", как они ее называли, свои запасы.
Мой отец, который глубоко почитал свою сестру, заменившую ему мать, рассказывал нам о ее большом уме, мужестве, справедливости. По его желанию в старом крюковском доме, где прошла ее жизнь, все осталось по-прежнему, как было при ней.
Мне было не более 6-ти лет, когда, возвращаясь из Риги, мы посетили хутор моей другой тети -Юлии. Она жила в небольшом одноэтажном доме, который ничем не отличался от таких же других. Его не окружали вековые липы, как в Крюкове, и не было ничего похожего на него. Одной стороной ее дом выходил в огород, где росли яблони, кусты смородины, крыжовника и малины. С другой - во двор, где были сараи и другие хозяйственные постройки и где бегало разное четвероногое и двуногое население, которое всегда и везде влекло меня к себе. Совсем близко от дома, через дорогу, начинались леса, и в них множество грибов. Особенно полюбила я березовую рощу, где под одной искривленной березкой всегда сидело с десяток совсем маленьких грибочков. К ней, к этой березке я бежала со всех ног, чтобы сорвать их первой. С того времени тетя Юля стала называть эту рощу с березкой "Марианночкиной рощей". Это название так и осталось за ней. Меня особенно поразило это, когда я снова приехала навестить тогда уже больную тетю, и мне шел восемнадцатый год.
Мы, дети, любили жизнерадостную, добрую тетю. Она имела неистощимый запас веселых историй, поговорок, стихов, которыми нас забавляла, когда приезжала из своего захолустья в Москву. К сожалению, все это забыто, в памяти остались только 4 строчки из поздравительного стихотворения, которое нам, детям, очень нравилось: Нынче раки носят фраки, А лягушки кринолин. Честь имею Вас поздравить Со днем Ваших именин.
Не знаю, когда овдовела тетя, была ли она счастлива со своим мужем. Нам никогда не рассказывали про это. Знаю только, что она не имела детей и, видимо, тяготясь одиночеством, приблизила к себе семью некоей Фрузы, воспитывая ее детей, помогая ей из своих скудных средств и завешав ей все свое движимое и недвижимое имущество. Последние годы она не вставала с постели. Папа ежемесячно помогал ей, посылая деньги. А после внезапного извещения о ее смерти, полученного от Фрузы, пришло анонимное письмо, в котором на-мекалось, что к ее смерти причастны облагодетельствованные ею люди.
Мы обедаем втроем, так непривычно, что нас так мало. Ваня обо всем расспрашивает меня. Он возмущен бегством нашей армии и событиями, которые совершаются. После обеда спешу все обойти, всем налюбоваться. Спускаюсь по липовой аллее к озеру, оттуда по берегу обхожу весь наш чудесный липовый парк. Вместе с усадьбой он занимает более 25 десятин. В его тенистых аллеях всегда прохладно. В квадратах, на которые он разбит, - защищенный от ветра наш фруктовый сад. Здесь яблони, плоды которых напоминают и вкус спелых груш и аромат каких-то цветов, которые, поспевши, сочны, как сливы, прозрачны, как фарфор, подобных которым я никогда не встречала. Они исчезли вместе со старыми усадьбами, погибли вместе с их владельцами, ушли в прошлое, не оставив о себе даже воспоминания.
К вечеру заходит мой двоюродный брат Костя '. Его небольшое имение, принадлежавшее раньше вместе с Крюковым нашим предкам, было всего в 1,5 верстах. Костя был единственный сын папиной родной сестры Веры Ивановны, красавицы былых времен. В 16 лет она была выдана замуж за человека, больше чем вдвое старше ее, русина по национальности, которого она до этого почти не знала. Костя, несмотря на способности, ум и образование, остался в жизни незамеченным. Виной тому были необычные свойства его характера. В нем воплотились основные черты гончаровского Обломова, дополненные нерешительностью гоголевского Подколесина. Во всех случаях жизни он искал совета, не решаясь в то же время ему следовать. Постоянно сомневался, как же в конце концов ему поступить. В совсем небольшом имении он обычно делал расчеты о доходах, которые, согласно этим расчетам, он должен был получить, но которые почти никогда не получал. Имение его, вопреки его оптимистическим планам, было заложено и неоднократно перезаложено. Поросята, которые еще не появились на свет, были уже сосчитаны, откормлены, взвешены и с большой выгодой проданы. Вырученные деньги употреблены на целый ряд хозяйственных нужд. Но увы! Только в мечтах. Он был добр и доверчив, а потому часто обманут, а его природная лень довершала остальное. Прекрасные способности, ум Кости, все это осталось как зерно, упавшее на каменистую почву и не принесшее плода. Он стал акцизным чиновником. Но и здесь он постоянно искал повода, чтобы отложить свою очередную поездку по уезду, то из-за подозрительных туч на горизонте, которые могли оказаться грозовыми (а грозы он очень боялся), то из-за плохо подкованной по его мнению пристяжной, которая может захромать, то из-за возможного приезда соседнего помещика, который к нему давно собирался. Зато это был другой человек за карточным столом, когда наезжали гости. Куда девалась тогда Костина нерешительность, его лень? Просиживая ночи за преферансом, он был неутомим и непоколебим.
Всем заправляла и распоряжалась его жена Зоя, женщина властолюбивая, расчетливая. Он женился на ней, только кончив университет. Она в то время осталась вдовой после смерти первого мужа, имение которого было в нескольких верстах от Кости-ного. Мы не любили ее, несмотря на несколько положительных черт, которыми она безусловно обладала. Не любили за отношение к тете Вере, Костиной матери. В присутствии Зои робкая, добрая тетя не смела рта открыть, выходя из своей комнаты лишь к столу. Непонятно, за что ненавидела и преследовала она тихую и безропотную тетю. Но к сожалению, это ни для кого не было тайной.
Тогда, в начале Октябрьской революции, в Смоленске начались массовые аресты и расстрелы. Костя с семьей, состоящей из его матери, жены и четырех детей, бросив свой дом и имущество, наспех собравшись, уехал, сам точно не зная куда. Он был уверен в том, что оставаясь в Смоленске, его постигнет та же участь, которая постигла уже стольких его друзей. В пути, при ужасающих условиях тогдашних железнодорожных станций и передвижений, Зоя Г—на заразилась сыпным тифом и умерла в одном из городов, где они вынуждены были высадиться в связи с ее безнадежным состоянием.
В 1922 году осиротевшая семья Кости вернулась в родной город и поселилась в своем покинутом и опустошенном доме, пережив за время своего добровольного скитания столько горя, мытарств и лишений.
В 1930-ых годах я ездила в Смоленск, чтобы в последний раз повидаться и проститься с тетей Верой, которая тогда уже не вставала с постели. Костя подарил мне на память свои два стихотворения. Тетрадь с его другими стихотворениями была забыта его детьми в горящем доме, когда в 1941 году они бежали из Смоленска. Он сам умер за несколько дней до этого.
Продолжаю свое повествование. По обыкновению после чая Костя и Ваня играют в шахматы, я же поднимаюсь в мезонин, где до своей смерти жила старшая из тех сестер - тетя Люба. Когда в былые годы мы приходили к ней, какими только сластями своего изготовления она не угощала нас! Здесь была и смоква всяких сортов, и варенье из лепестков роз, и всевозможные домашние печения. А с каким радушием, с какой любовью встречала она нас. К сожалению, я ничего не знаю о прошлом тети Любы. Такие сведения, не знаю почему, давались нам моими родителями крайне скупо.
Теперь в мезонине никто не живет. До войны комнаты предназначались гостям, приезжающим к нам летом. В средней, самой большой, как будто бы совсем недавно гостили мои подруги – Соня Гавриленко и Наташа Белевцева. Чего только мы не придумывали с ними. По стенам портреты, писанные маслом каким-то неизвестным художником. Как говорили, эти портреты военных – моих предков. Для нас же они служили предлогом для всевозможных выдумок. Когда вечером, после обычно бурно проведенного дня мы подходили к двери нашей комнаты, то начинался спор, кому первому войти, чтобы завесить глаза предков, глаза, которые неотступно следили за вами. Брат Ваня мастер на всякие выдумки, изобретал самые невероятные рассказы. Подруга Наташа в связи с этим сочинила целую поэму, начинавшуюся словами "Брат твой Ваня нехороший, напугал меня Антошей". Обычно дело кончалось тем, что мы стаскивали наши матрацы с кроватей и устраивались на полу, предварительно забаррикадировав ее двери. Наташа обязательно между мной и Соней, как самая большая трусиха.
Дверь на чердак, мимо которой я должна пройти, на замке. И все же и теперь, вернувшись с фронта, этот огромный чердак внушает мне какой-то неясный страх. А что если вдруг кто-то выйдет или позовет из темноты?! Я не оглядываясь спешу вниз.
Моя комната, бывшая тети Лены, выходит в сад. Возле окна кусты давно отцветшей сирени. На клумбах распускаются разноцветные астры, георгины, аромат душистого табака врывается в открытое окно. На темном небе зажигаются звезды. За озером в селе слышен лай собак. Кое-где в окнах светятся огоньки. И я смотрю и смотрю, не в силах оторваться. А как изменилось, опустело Крюково за эти последние три года. Наши коровы уничтожены, зараженные повальным воспалением легких от скота беженцев, остановившихся на нашей земле. Не слышно гула мельничного мотора, ржания лошадей, голосов ожидающих на лугу, возле мельницы, их хозяев, приехавших, чтобы смолотить привезенные мешки ржи или пшеницы. Наших лучших молодых лошадей реквизировали, с ними мою любимую рыжую корову Искру... Вместо наших работников все чужие люди - беженцы. Я снова по приезде работаю в поле с раннего утра до позднего вечера, то на жнейке, то на уборке. Раньше это удивляло местных жителей, особенно помещиков. Некоторые приезжали издалека, чтобы проверить, правда ли, что "московская барышня" сама управляет жнейкой или дергает лен. Теперь некому было удивляться, а моя помощь более чем кстати.
Деревни и хутора лишились своих основных работников. Скольких уже никогда не дождутся их матери и жены. Вечерами не слышно песен. Девушки уже не собираются вечерами как бывало, чтобы повеселиться. Вернутся ли молодые парни, которых они оплакивали, провожая? И нет бойкого гармониста, наигрывающего веселую плясовую. Не видно разукрашенных троек, несущихся по дороге, ими не управляют с пьяным удальством гости веселой свадьбы. Не мчатся, стоя на телегах, сыновья нашего соседа, чтобы по обычаю помогать нам при уборке. Их молодые жены крепко держатся, чтобы не вылететь при этой бешенной езде через сжатые поля, межи и канавы. Их отец, крестьянин одной из соседних деревень, незадолго до войны купил соседнее с Крюковым имение В—го, в 250 десятин, переселился в построенный им дом и вместе с сыновьями завел образцовое хозяйство. Нет и нашего управляющего, латыша К. Я—ча; его мрачная фигура не вырастет неожиданно передо мной, я могу не остерегаться его упорных преследований. Нет и моего спутника по верховой езде Пети Т—на, сына одного из ближайших помещиков, с которым мы так чудесно носились по дорогам.
До моего отъезда осталось всего несколько дней. Снова и снова обхожу каждый закоулок, каждый кустик, каждую тропинку. Чувствуется приближение осени, желтеют листья, опустели поля. Все сжато, скошено, убрано.
Вечер моего последнего дня в Крюкове. Мы сидим за столом, горят зажженные лампы. На столе кипит самовар. У нас Костя. Он в постоянном волнении и полон страха за будущее.. Когда он уходит, провожаю его до плотины и отсюда смотрю на наш дом, парк и озеро. Из тишины ночи доносятся слабые звуки пианино. Это мама с Ваней играют в четыре руки. Свет из раскрытых окон растворяется в черной мгле парка и кажется, что не будет просвета в этой мгле, поглотившей и наше Крюково и нас всех.
Н. А. Рачинская «Семья Веревкиных и их имение Крюково Краснинского уезда»